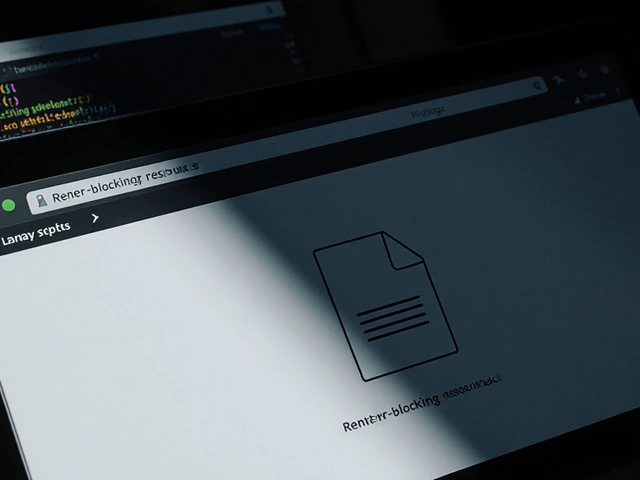Люди часто бросают изучение иностранных языков на полпути. Кто-то уверяет, что английский даётся проще всех, другие опасаются иероглифов в японском, а третьи сбегают от арабского письма. Но есть ли тот самый, самый трудный язык в мире? Или всё дело в том, кому какой язык родной?
Что делает язык сложным
Совсем не все языки одинаковы ― и даже не близко к этому. На первом месте ― фонетика. Если в языке есть звуки, которых нет в вашем родном, мозг будет строить гримасы на попытке их повторить. Например, в клингонском из «Звёздного пути» есть абсолютно незнакомые для большинства людей звуки, но это учебный пример. А вот в корейском есть 10 вариантов гласных — и, честно, большинство европейцев сходят с ума, пытаясь услышать разницу. Следующая тема — грамматика. Представьте себе венгерский с его пятнадцатью падежами, или финский, где слова растягиваются до бесконечности из-за сложных суффиксов. Казахский и другие тюркские языки тоже ставят мозги в позу лотоса — но всё это цветочки. Особенно, если речь идёт о морфологии — то есть, как слова превращаются друг в друга.
Тональные языки, например мандаринский китайский, — это отдельная боль. В одном слове «ма» четыре фундаментально разных тона: мама, конопля, лошадь, ругать… Из-за тонов классифицируют китайский как необыкновенно сложный. Есть и письмо — и тут традиционные китайские и японские иероглифы выбивают новичков даже больше, чем сложное произношение. В японском школьник должен знать к выпуску минимум 2000 кандзи, а в повседневной жизни — и того больше. Прямой конкурент — арабский с письмом справа налево и возникновением множества новых форм одной и той же буквы в зависимости от положения в слове. Но и здесь есть нюанс: многим арабоязычным грамматика русского кажется адом. Всё дело в том, откуда вы стартуете.
Лингвисты разработали даже специальную шкалу — Foreign Service Institute (FSI) в США. На ней сложность зависит не только от длины слов, но и от разницы с родным языком ученика. Чем дальше язык оттого, на котором ты мыслишь всю жизнь, тем проще получить «культурный шок» — и бросить команду китайских учебников. Например, для носителя английского учить французский — легко, а вот корейский, арабский и японский — почти верхняя граница теста на выносливость.
Интересно, что сложность — зачастую субъективна. Кто вырос в Алматы, где тюркские казахские и кириллица наравне с русским — попроще освоит киргизский, чем английский. Ребёнок из Вьетнама ловит тоны иероглифы с пелёнок, а вот путается во всех падежах и ударениях в русском. Для носителя английского японские числительные — боль, а русский склонения — пытка. Так что всё относительно — и часто зависит от стартовой точки.
Языки с самой сложной грамматикой и письменностью
Первое, что пугает новичка, — это грамматика. Ничто так не выбивает почву из-под ног, как венгерский с его пятнадцатью падежами и десятками форм глаголов. Для примера: чтобы сказать простое «у меня есть книга», венгерский базово использует конструкцию, которая не похожа ни на русский, ни на английский. В финском тоже весело: тут нет привычных нам времен, зато есть длинные послелоги и суффиксы, превращающие одно слово в целое предложение. К примеру, слово «talossanikinko», состоящее из одного корня и кучи суффиксов, переводится как «даже ли в моём доме?». Такая запись — норма.
Арабы скажут: попробуйте ещё написание. Там не только письмо справа налево, но и разные формы одной буквы, которые зависят от позиции в слове. Суахили пугает своей приставочной системой — префиксы на каждом углу, меняется не только глагол, но и у существительных другие маркеры в зависимости от принадлежности к классу. Носители японского в школьные годы учат более двух тысяч иероглифов — а каждый иероглиф ещё надо уметь писать и читать в двух (иногда трёх) вариантах: китайском, японском и иногда упрощённом.
Не забудем о полисинтетических языках коренных народов Сибири и Америки: в инуитском слово может занимать до 30-40 букв и содержать сразу целое предложение. В эскимосском или лакота заодно спрягается сразу несколько глаголов в одной конструкции. Такой язык с легкостью может превратить «я быстро пошёл купить молоко и тут же вернулся домой» — в одно огромное слово.
Впрочем, самые выдающиеся примеры писемности — это китайский и японский. Для сравнения, взрослый японец обязан знать примерно 2000 кандзи, а на госэкзамене по китайскому нужно понимать и писать около 3500 иероглифов. Причём каждый знак уникален, и разные знаки легко можно спутать — отсюда масса смешных случаев и мемов на тему "не тот иероглиф, не тот смысл".
Есть ещё аборигенные языки, вроде австралийского пама-нюнгена. В нём более 20 разных форм спряжения и куча падежей, причем большая часть строится на принципах, которых нет в европейских языках. Сложнее ещё только баскский: этот язык вообще невозможно отнести к какой-либо языковой семье, у него уникальная структура.

Самые сложные языки для носителей русского и английского
Российский человек болеет своей грамматикой: шесть падежей, мужской-женский-средний род, глагольные виды, о которых мечтают носители английского. На самом деле для носителя русского любой язык, где падежей больше, а глаголов сложнее — вызов. Согласно исследованиям FSI, русский считается сложным для англоговорящих, но не самым непосильным.
Для нас ужасающими выглядят сингальский или тайский. Тональные различия и сотни островков местного сленга, скажем, тайский имеет пять тонов и двадцать вариантов гласных звуков — это выбивает из привычного строя даже фанатов лингвистики. Для большинства русскоязычных пиковое число сложностей — японский (грамматика и письмо), арабский (письмо и слоговая структура), баскский (уникальная грамматика), и китайский (тоны и иероглифы). Таблица ниже покажет, сколько часов потребуется в среднем для достижения продвинутого уровня (по классификации FSI для носителей английского):
| Язык | Среднее количество учебных часов для свободного владения |
|---|---|
| Китайский (мандарин) | 2200 |
| Арабский | 2200 |
| Японский | 2200 |
| Корейский | 2200 |
| Венгерский | 1100 |
| Финский | 1100 |
| Русский | 1100 |
| Исландский | 1100 |
| Французский | 600 |
| Испанский | 600 |
| Немецкий | 900 |
Так что если вы учили английский — не думайте, что все языки такие же простые. Французский, по статистике, изучается примерно за 600 часов, а японский, арабский или китайский — за 2200. При этом, важно учитывать, что для носителя русского часть европейских языков осваивается легче, чем для носителя английского: немецкий, польский, чешский близки по структуре.
Некоторые языки можно освоить быстрее из-за наличия общей лексики — шведский или чешский для близких соседей. Но вот японский или тайский — сразу становятся приключением, часто даже авантюрой.
Если же вы свободно владеете несколькими языками, то мозг в перспективе легче переключается между структурами — ученые выяснили, что полиглоты быстрее осваивают новые системы благодаря развитию особых зон мозга.
Языки для любителей поломать мозг
Настоящими легендами среди лингвистов считаются языки эскимосов — в них глагол спрягается не только по времени, но и по лицу, числу, наречию, часто прямо внутри одного слова. В языке навахо более сорока форм основных глаголов, а всего там около 40 времен и аспектов.
Самым необычным многие считают язык айну с острова Хоккайдо. Он почти исчез, но сохранил старинные, крайне сложные для передачи формы: смысл зависит не только от порядка слов, но и от тематических частей, меняющихся от темы к теме. Есть уникальные африканские языки, например эква или ик, где есть целые серии щелкающих и фыркающих звуков, которых даже невозможно записать латиницей. Знаменитый бушменский язык использует почти 40 уникальных щелчков.
Ещё одна головоломка — !Xóõ: в этом языке более 120 согласных, и большинство из них — щелкающие. Такое встречается только в Африке и потрясает даже бывалых филологов. Казалось бы, сколько новых звуков мы умеем произнести? Оказывается, гораздо меньше, чем думаем.
Не только в экзотических странах найдёшь трудности: польский с семью падежами и нерегулярными окончаниями иногда считается кошмаром даже для жителей стран Восточной Европы. Сербский, хорватский и боснийский — сплошные прыгалки по формам, да и литовский/латышский не дадут вам расслабиться.
Самые сложные для письма — древнекитайский и шумерский клинописный. Есть и современные рекордсмены, например, тибетский или бирманский алфавит, где для каждой буквы существуют десятки вариантов написания.
Для маниаков структур — табасаранский (дагестанский). В нём — 48 падежей! Даже берлинский профессор Гельмут Ристау, всю жизнь изучавший языки Кавказа, признавался: "Кажется, мой мозг перестал понимать с сорок третьего падежа".

Советы тем, кто решился учить сложный язык
Первый совет — не ведитесь на пугающие рейтинги трудности. Многие бросают изучение языка просто потому, что поверили: японский слишком сложный, арабский невозможен, а в китайском невозможно выучить ни одного иероглифа.
- Ставьте правильные цели. Не обязательно сразу понимать древнеяпонскую поэзию. Можно начать с разговорных выражений и алфавита, как делают все японцы в школе.
- Используйте ассоциации. Например, для китайских иероглифов отличная техника — связывать их внешний вид с образом или историей. Так запоминать легче.
- Слушайте и повторяйте — тональные и фонетические различия осваиваются только на слух и в речи. Для этого подойдут современные приложения с распознаванием речи.
- Погрузитесь в культуру. Ни один язык не дастся без интереса к культуре и истории народа. Смотреть фильмы, читать книги, слушать подкасты даже на базовом уровне — помогает привыкать к структуре языка и получать удовольствие.
- Учите каждый день по чуть-чуть. Научно доказано: ежедневные микросессии (по 10-15 минут) куда эффективнее еженедельных марафонов по 2-3 часа.
- Не бойтесь ошибок. Местные всегда оценят ваши старания и поправят без злости — особенно, если видят искренний интерес.
- Искать языкового напарника — лучший способ научиться понимать живой язык и быстро прогрессировать.
Сложный язык — всегда марафон, а не гонка на сто метров, но даже марафон состоит из маленьких шагов. Главное — помнить, что нет абсолютно непроходимых языков. Если армянский подросток легко выучивает русский, значит и взрослый европеец освоит хотя бы базовые иероглифы. Мир огромен — и любой новый язык открывает не только новые страны, но и новые способы мышления. Порой это важнее кучи падежей и тонов.
Какой язык самый трудный? Тот, к которому не чувствуешь интереса. А если глаза горят, шансы преодолеть любые грамматические иероглифы подскакивают в разы. Главное — не останавливаться на первой же странной букве.